Александр Мильштейн. Фриц. Повесть
1-2/2015 (71-72) 15.06.2015, Таллинн, Эстония
Странно, думал Фриц, новый дом вроде должен быть люксовым, а фасад какой-то недоделанный хотя в окнах уже горит свет и мебель стоит в лоджиях… Выглядит, как бункер, как будто дом боится, что его тоже будут взрывать, бомбы здесь растут, понимаешь, на грядке… И на бетоне оставлены эти разводы вроде как раствора… Или это стыдливый экивок в сторону прошлого, «шероховатость»… Да нет, скорее это выглядит, как если бы архитектор устыдился своего детища и решил затушевать то, что всё-таки, наверно, он чертил… а может, и не чертил, а… взял кусок дерева и наугад вырубил из него макет топором.
А что, скульпторы же так делают…
Ну, только не макеты, а формы для литья, бронза потом выглядит, как неотёсанное дерево, ну да, как у Базелица эти чёрные четырёхэтажные человечки-дрова… которые он наколол давеча и выставил в Хаус дер Кунст.
Фриц подумал, что в нём говорит не предвзятость: очертания серого фасада такие унылые, что дело даже не в обиде за старые домики, дворик и флигель.
Плюс ещё эти витрины, как будто облитые оливковым маслом…
Толстые стёкла были на самом деле тонированы, и у Фрица, безуспешно пытавшегося что-то сквозь них разглядеть, возникло такое ощущение, что там за ними вода.
Аквариум без рыб.
Тёмный тихий омут.
Широкие железные створки, врезанные прямо в фасад, выглядели как грузовой лифт и, когда Фриц подошёл к ним, они растворились. Вода оттуда не хлынула, но Фриц остановился, пропуская заплывающий в дом горизонтально, а не под уклон, как в подземный гараж, лимузин с огромным серебряным ведром на заднем сиденье, из которого торчали бутыли «Моёт».
Фриц, отвлечённый блеском лимузина, ведра и бутылей… которые, впрочем, не сильно и блестели, но – просто даже их количеством, там было не меньше двух десятков… не успел заглянуть в нутро саркофага и не будет теперь знать, не стоит ли там в глубине старый милый сарайчик с вывеской «Швабингер-7».
Проглоченный, но невредимый.
Милый-то милый… наверно, из-за этого «…что пройдёт, то будет мило», да… а Фрицу ведь эти строчки даже неизвестны.
Впрочем, мы не обязаны писать о нём его же словами… Надо просто сказать, что его отношение к кубику прошлого, который унёс вместе с собой в лету этот бар, не так сентиментально…
Нет, даже не так… Просто – «милый» тут не подходит, только и всего.
Когда Фриц попал туда впервые, он там подрался. Отставной фельдфебель, или кто он там был, нагло придвинулся к Уши и Мони, стоявшим у стойки, и заговорил, хамски прервав их разговор, а когда Фриц сделал ему замечание, просто махнул на него рукой. Фриц возмутился, тот махнул сильнее, и более размашисто, после чего они сцепились.
Разняла их одна из барменш – перепрыгнула через стойку и растащила удивительно сильными руками за шкирки (Мони и Уши помогали ей в основном криками) и после этого, как ни в чём ни бывало (т. е. видно было, что это для не неё такое же привычное дело, как мытьё посуды), прыжком вернулась обратно за стойку к бокалам, которые она умудрялась полоскать в мойке, извиваясь так, что в этом освещении (чёрные стены и парты, тусклый жёлтый свет и как бы отблески «тяжёлого металла», который там грохотал) она вся казалась переплетением синих змей-татуировок.
Да и всё вокруг после встряски – «шейка» – как они потом шутили, из напитков, которые Фриц перед этим выпил в своей штамм-кнайпе, выглядело так, будто Фриц провалился в картину Родригеса.
«От заката до рассвета» – Фриц так и говорил потом всегда, когда вспоминал этот бар, владелец которого Герд-«Манила»-Вальдхаузер сказал после того, как его сарайчик и все окружающие домишки снесли и стали копать котлован под большой дом, и экскаватор наткнулся на бомбу, которая всё это время мирно пролежала под досками – Вальдхаузер, да, сказал тогда в интервью корреспонденту «Абендцайтунг», что он, узнав о бомбе, немножко расстроился.
«Это бросает какую-то тень на нашу славную историю – люди теперь будут думать, что раз она ни разу не сдетонировала, мы недостаточно весело оттягивались на ней все эти десятилетия!»
Фриц, во всяком случае, так не подумал, нет.
Для него этот бар был и остался, как бы сказать… Inbegriff von „Absturzkneipe“,
ну т. е. живым воплощением того, что на русский я бы, наверно, перевёл как «последний кабак перед заставой».
Да вот и перевёл, собственно.
Так или иначе, для Фрица тогда это было что-то новенькое. Ему показалось, что Мони и Уши взяли его за ручки и вытянули в бравый взрослый мир из пробирки штамм-кнайпы в Глокенбах-фиртель, в которой он просидел лет двенадцать перед этим вместе с другими пробирочными мальчиками и девочками (не в смысле их зачатия мы это написали, кто их там знает, как они родились… а в смысле… их стерильности и благодушия – они, как муравьи под микроскопом, которых Левенгук опаивал предварительно бренди, а не сперматозоиды, которых он же принимал за гомункулусов или вообще готовых человечков, ну понятно). Оказавшись за стеклом – снаружи – уютного родного «локаля» ночью, они куда-то побрели втроём по городу. «Мэдельн» (девчонки, подружки… в этот момент их можно уже было назвать и так и этак) с двух сторон Фрица в какой-то момент перешли на нижнебаварский и говорили так быстро, что Фриц, который родился под Кёльном, перестал их понимать совсем, всё слилось в какое-то «до-дададада-диан…»
Пока Мони вдруг не сказала на хох-дойче: «Как на счёт того, чтобы продолжить в «Швабингер-семь»?
Фриц сказал, зевая: «А что это», и подружки обрадовались: «Ах, так ты там не был!
Ну тогда точно идём, хотя бы один раз тебе обязательно надо там побывать».
Примерно так начинался мой рассказ «Мама Роза», кстати. Ну, примерно такими же словами: «Тебе надо это увидеть…»
Правда, там делался акцент на писательстве: «Тебе как человеку пишущему надо у неё побывать…»
Ну так и Фриц ведь пишет… ну да, мы забыли сказать, заворожённые своей ностальгией по руинам… что наш новый герой – свободный журналист, впрочем, об этом речь пойдёт потом, т. е. когда/если мы распишем ручку… А кто писал, что любое заведение со временем становится похожим на своих завсегдатаев? Точно не Фридрих Винкель (Фриц), но нам с вами это может помочь… вот в каком смысле… я вот подумал: если я назову хотя бы нескольких завсегдатаев «Швабингер-7», которых вы знаете, можно сэкономить на бумаге, потому что вы сможете представить себе это заведение лучше, чем если я потрачу ещё несколько страниц на описание его стен и столов, похожих на старые школьные парты, за которыми сидят новые готы и старые панки… но так же и кто угодно – такие, как вот Фриц, попадающие туда или сюда случайно, без особых примет…
В общем, чтобы покончить с портретом несуществующего «генделыка» (который вовсе не является героем рассказа, как можно было уже подумать из-за того, что я так много о нём пишу, а пытаясь от него отвязаться, ещё и походя придал ему антропоморфные черты заёмным приёмом), назовём завсегдатаев. Это, во-первых, Райнер Вернер Фасбиндер, врывающийся сюда один или со своей «кожаной бандой», и это члены РАФа, которые здесь не только бухают, у них здесь ещё и происходят «собрания ячейки», представьте,
за партами, чин-чинарём, теперь поимённо… Да нет, хватит, пожалуй. Потому что бомбу, которая как будто скаталась там под днищем за эти годы из песка-селитры, а на самом деле соткалась сверху из воздуха, конечно, когда сарайчика там ещё не стояло, в 45-м (он возник посреди руин в начале 50-х), нельзя было бы воспринимать иначе, как иронию судьбы, если бы бомба сдетонировала.
О чём мечтал, как оказалось, неосознанно, как минимум, Манила-Вальдхаузер, бартендер.
А если б ещё и в момент заседания ячейки фракции «Красной Армии»…
А так это было… не «объект желания», а просто невинная усмешка истории, не правда ли.
Бомбу с «временнЫм взрывателем» не смогли обезвредить даже супер-сапёры, выписанные то ли с Севера, то ли из Штутгарта, транспортировать её было невозможно, естественно, и принято решение подорвать на месте. Соответственно, выселены на сутки десятки тысяч жильцов окружающих домов, включая и дом, в котором обитали старые уже к тому моменту (в иносказательном смысле) подружки Фрица.
Хотя их дом стоял совсем уж далеко от эпицентра… Воооще, все эти меры показались Фрицу чрезмерными… Такая штука могла бы разнести наш любимый сарай – если бы его итак уже не снесли бульдозеры – несмотря на все протесты общественности. Ну, согласен, не только его, шутка… но всё равно: не может от одной авиабомбы быть столько ущерба на таком расстоянии, чтобы выселять несколько кварталов, – болтал языком Фриц в своей кнайпе-пробирке, – «разве что янки бросали ядерные не только на Японию…» Шуточки, да, которые он проговаривал друзьям и подружкам, но когда бомбу взорвали, Фриц это услышал хотя находился в тот момент совсем в другом конце города. Возвращался на велосипеде из гостей, люминисценцию на тёмном небе принимая за далёкие зарницы. О бомбе он даже не подумал! Эхо от взрыва машинально приписал чему-то другому, ну там гром прогремел или самолёт неуклюже преодолел барьер… Не подумал совсем, что не так странно, потому что бесконечные прощания-проводы его к тому времени уже притомили. Один раз он написал об этом статью типа некролога, а когда потом узнал, что кабачок ожил, он сходил туда ещё раз и решил, что это всё, хватит, тема отработана и закрыта, сколько бы избушка не возникала снова из-под земли, он её из головы уже вроде как выбросил.
Ну да, «Швабингер» несколько раз объявляли умершим за последние годы, и Фриц в первый раз не только писал статью, но и ходил на поминки, напрягая немного память, он мог даже саунд-трек вспомнить частично (в отличие от подробностей собственной заметки в локальной газете – текучка) – не полностью металлический в тот раз, какие-то шлягеры там звучали, праздник, хальт, похороны, на которых хоронят не посетителя, а всю кнайпу, в этом есть ведь что-то от конца света, не так ли… А потом через несколько лет – которые отвоевала-таки общественность, снова слышится это: «Прощание со «Швабингер-7»!», даже по почте приходит открытка, big deal… Ну, понятно, что бар стал постепенно казаться бессмертным зомби-домом, т. е. уже окончательно «от заката до рассвета», ну да… А, так как, он на самом деле никогда не занимал в мозгу Фрица столько места, сколько успел уже занять на наших страницах (что до решения о сносе, что после, Фриц заглядывал туда раз в год максимум), в тот вечер он узнал, что это был взрыв бомбы, что лежала под историческим сараем, только придя домой и прочитав в интернете новости и посмотрев видео.
Взрыв на экране, впрочем, произвёл на Фрица впечатление.
На следующий день он прочёл, что пожар бушевал на месте взрыва всю ночь, тушили десятки пожарных машин, пожар пробовал перекинуться на соседние дома, загорелась летняя мебель на балконах и крышах.
А в следующий раз Фриц вспомнил о бомбе только, когда увидел воронку.
Но уже непонятно было к тому моменту, когда он проходил мимо стройки, кто успел проделать бОльшую часть этой работы, бомба, или экскаваторы, которые продолжали ползать по дну и по стенам ямы.
Фрица больше, чем вид растущего на глазах котлована заворожила витрина магазина готовой одежды «FLIP» на противоположной стороне улицы. Да и на той же самой стороне – когда он прошёл немного дальше, и далее, казалось, везде… стёкла витрин были покрыты густой «паутинкой».
Фриц дошёл до перекрёстка Феличштрассе с улицей Оккама, завернул за угол, и увидел, что это продолжается и там – паутина трещинок тянулась-передавалась по окнам дальше и дальше, он зачем-то шёл по следу взрывной волны («эха прошедшей войны» – точно написал бы я здесь, если бы Фриц знал эту песню), пока не потерял – дальше стёкла были целы… Фрицу показалось, что вся эта стеклянная ламетта, ёлочный дождик… что бы там ни было, теперь намоталось на него – он ощутил на себе, да, почти увидел вокруг себя эти тонкие ниточки, и до парка шёл, периодически поводя плечами, а зайдя в Английский сад, весь встряхнулся, как будто передразнивая белую собаку, которая только что искупалась в Швабингском ручье.
Забежала и выбежала, когда Фриц переходил по мостику.
Теперь он шёл по тропинке, которая вела к озеру, и в то же время снова возвращался-пятился мысленно во дворик, где стоял флигель… Фриц вспомнил – как будто, чтобы уже разделаться с воспоминанием об этом месте, что однажды побывал там дальше – за стенкой – в следующей части пристройки, которая дальше была двухэтажной и там на втором этаже была в тот момент выставка художника, о котором Фриц, по крайней мере, ничего не знал до этого, просто увидел флаер, прикреплённый к двери в очередой раз закрытого перед очередным «сносом» «Швабингер -7».
Галерист встал из-за стола, подошёл и сказал ему – единственному посетителю, после приветствия, что художник считается Первым художником Украины, но по тем работам, что висели в галерее – огромным пластинкам, написанным как-то так просто небрежно левой рукой… Да ещё магнитофонная кассета в человеческий рост там была… по которой тоже – Фриц о величии художника не догадался бы, нет.
Зато потом – посмотрев уже дома в интернете другие картины Александра Гнилицкого, Фриц присвистнул и хотел было снова отправиться в тот дворик, чтобы узнать цену и может быть, что-то купить… но передумал, решив, что раз это такой известный художник, то это будет не по карману.
Теперь он вспоминал – идя по газону, подбрасывая листву – как галерист сказал ему: «Вот смотрите, художник не мог знать, что эта картина будет выставлена у меня, он ведь написал её задолго до того, как я предложил ему устроить эту выставку, и он здесь никогда не бывал до этого, – говорил Фрицу немного странный галерист, указывая на пластинку на холсте без рамы, висевшем напротив окон, которые были составлены из маленьких оконцев-квадратиков, сложенных в большие окна – с половины стены до потолка… «Не мог он этого знать и, тем не менее, вот смотрите, – сказал галерист и указал Фрицу вверх – туда, где около яблочка пластинки мелькал как бы отблеск окна напротив – такие же точно белесые квадратики… «Знаете, это вот то, что я больше всего ценю в художниках. Для меня это вообще свидетельство того, что художник настоящий» – сказал галерист, и Фриц теперь на мгновение задумался – а что, собственно говоря, такого ценного в том, чтобы в картине отражалось её будущее выставочное пространство?
Он не смог ответить на этот вопрос. Мысль сорвалась, как игла тонарма, зависла в воздухе…
Фриц мысленно увидел ещё раз масляную пластинку, но не сбоку, а как бы сверху – большие чёрные круговые мазки… круговая пашня… Через минуту, взглянув перед собой, он вспоминал уже картину другого художника, на которой было то же озеро, что сейчас перед было ним, наполовину покрытое мазками тех же белил с оконной рамы, изображающими, впрочем, лёд – ледок… Фриц подумал, что озеро Клейнхессенлое на картине Кандинского и больше того – аллея вокруг озера, эти пастельные оттенки светлой слякоти, бегущей по кругу… не так уж похоже на пластинку украинского художника… но есть там и там вращающий момент… есть-есть, какой-то turn-table-эффект… Что-то вроде промелькнуло в голове, как на гончарном круге, но не схватилось и не схватить… и Фриц вспомнил только величественную банальность – «картины мастеров это лужи, в которых отражается вечность», потом что-то ещё в этом духе – по инерции.
Я бы, м. б., написал ещё, что пластинка в сочетании со сдвижкой во времени напомнила Фрицу повесть Кортасара о Чарли Паркере – «Это я играю уже завтра…» Если бы я не был уверен, что Фриц Кортасара не читал – он когда-то сам сказал мне это.
В общем, Фриц где-то здесь остановился, и сел… нет, не в лужу, а на зелёную скамейку, стоявшую невдалеке от озера, но не самом берегу.
Не то чтобы это была его личная скамейка… Но на спинке этой скамейки была маленькая овальная бронзовая табличка: «Мони & Уши, это чтобы вам было лучше смотреть в одну сторону!» и дата.
Тут нет ничего странного, все скамейки, по крайней мере, в этом районе Английского сада, именные, и эту табличку заказал когда-то наш Фриц. 200 евро всё удовольствие.
Мэдельн, т. е. подружки посмеялись и посидели на ней, может быть, один раз.
Положив руки за голову, которую он наклонил назад, Фриц стал смотреть в направлении, которое подарил когда-то своим «хозяйкам», на осенний свет в тёмно-зелёных листьях, ради которого, собственно, он и решил заглянуть сегодня в парк.
Озеро при этом не входило в Raumwinkel, то бишь, «телесный угол», который вручался каждому седоку скамейки, как такой… огромный прозрачный зонтик, который держат перед собой наоборот… И мелькнувшую идею: заменить табличку на спинке на «Скамейка, сидя на которой Василий Кандинский писал картину «Английский сад» в таком-то году», Фриц уже отбросил. Потом он однако встал и подошёл к озеру, как будто всё ещё размышляя об этом, т. е. не сделать ли табличку на другой скамейке.
Но все скамейки были отабличены, а Кандинский скорее всего писал стоя, а может, и не здесь, а в мастерской по памяти, и вообще: Фриц об этом уже перестал думать и смотрит вдаль. Im Geiste, т. е. как дух над водой, или туман над далёкими полянами сада, который скоро начнёт там растекаться кое-где тонким слоем… так вот и мысли персонажа из вершины телесного угла простёрлись над озерцом до другого берега и проникли там (как дымок в трубу при обратном просмотре плёнки) в ресторанчик «Seehaus».
Фриц вспоминает рождественский праздник, который там справляла его тогдашняя редакция. И не только – сводчатый зал ресторана слишком большой для их сабантуя-междусобойчика, и там в тот вечер праздновали и другие трудовые коллективы.
«Хорошее вино?» – спросил Фриц, оказавшись после главных блюд за почти опустевшим соседним столиком с девушкой, которая ему давно уже казалась не только симпатичной, но и какой-то… Gemütlich, т. е. уютной, как такой маленький домик в домике. «Да-да, рекомендую» – сказала она. «Спасибо. Я не пью вино». – сказал Фриц. Девушка улыбнулась. Не стала спрашивать, зачем спросил.
«А хотите узнать, почему я не пью вино?» – спросил Фриц. Девушка пожала плечами – совершенно незаинтересованно, как ему показалось… но потом вдруг снова улыбнулась и сказала: «И почему же?» «А потому что я происхожу из семьи, где пятьсот лет, по меньшей мере, пьют только вино. И не только пьют: до сих пор ещё выпускается вино в бутылках с гербом нашей семьи, моим предкам принадлежали виноградники в районах Рейнгау и Миттельрейна… Короче говоря, в доме я видел с рождения вино и только вино. Мысль о том, что вино неизмеримо превосходит такой варварский напиток, как пиво, казалась такой же незыблемой, как… я даже не знаю, с чем сравнить. Это была первичная мысль, понимаешь? Фундаментальная. На том стоим. Впервые я попробовал пиво с друзьями в 18 лет на вечеринке. Вино там было, но такого плохого качества, что я поддался уговорам. Неожиданно этот напиток мне так понравился, что я… «Понравился» тоже не то слово, это был какой-то инсайт. Я даже потом думал, что, может быть, они подмешали туда что-то, растворили таблетку? Они смеялись и отнекивались… В общем, пиво невероятно мне понравилось, не могу выразить как. Я просто влюбился в пиво с первого глотка! И совершенно перестал пить вино. И когда после абитура мне предстояло выбирать, где учиться, я выбрал Мюнхенский университет, только чтобы переехать в страну пива, представляешь. Конечно же, я не стал объяснять подлинные причины родителям. Возможно, они сами потом о чём-то догадывались, а впрочем, наверняка они до сих пор путают причину со следствием… когда я приезжаю к ним в гости и открыто пью пиво – при них, за столом, я приношу с собой, их так корёжит… Но что делать, смирились, в семье не без урода, да? К тому же они так рады, что я приехал… А я просто не могу с тех пор пить вино. Наверно, это и есть моногамия, хе-хе. Вот такая история. Но при этом я по-прежнему разбираюсь немного в винах… Ели ты не против, я попробую и скажу тебе… Да, неплохой букет, ты права… Синий португалец… Наверное, австрийского происхождения хотя в этом я полностью не уверен… В чём я уверен, это в том, что я узнал твои мысли». «Почему?» «Так говорит мой приятель, который много путешествовал по странам Востока». «Ну и о чём же я думаю?» «Ты? Ты думаешь вот о чём… Я скажу тебе… Боже мой, думаешь ты, каких только идиотов ко мне не прибивает пенной волной из Schwemm’а, этот ещё и гордится своим идиотизмом – тем, что перебежал из райских рейнских кущ в это наше болото пивососов… тогда как нормальные люди уезжают отсюда туда, сытые по горло всеми этими рюшечками и горшочками… этими Октопусфестами с их липкими щупальцами, захватившими уже почти весь календарь, этой рвотой, заливающей полгорода, всем этим пивом, короче, которое хлещет из каждого крана, как можно было уехать, думаешь ты, оттуда сюда… учиться – чему? – к «пивным профессорам», как писал о них Дюшан в почтовой открытке, которую он послал прежде, чем утонул в писсуаре, из Хофбройхауза… Ты не видела эту открытку? Там за столами…» «Нет, ты не угадал, – прервала его она. – Я подумала: «Какое стечение обстоятельств». «А какое такое стечение?» «У меня в роду несколько поколений пивоваров. – со смехом сказала Мони. – А у тебя виноделов». Фриц широко открыл глаза, потом рассмеялся и наконец – впервые за время разговора – её бокал и его поллитровый цилиндр соприкоснулись с лёгким звоном.
Через день они встретились в баре, который Фриц считал своей штамм-кнайпой, потому что он там бывал каждую неделю, как минимум раз, а Мони и Уши были там не то чтобы впервые, но во всяком случае, «завсегдатайками» ни до, ни после знакомства с Фрицем не были и вообще не любили этот район – Глокенбах.
Да, «рождественская девушка» пришла на встречу с подружкой по имени Урсула (Уши), гораздо более земной, скажем так… от которой исходила недвусмысленная призывная радиоволна, а вспышки в глазах в сочетании с баварскими остротами, которые она так и рассыпала в первый вечер… были такими природными… и при этом таки да –электрическими, эти вспышечки в глазах, щёчки-ямочки… что Фриц решил: всё ясно, ему предлагают переорентироваться на подругу, может быть, Мони занята… и дарит его – своей подруге, однако в тот же вечер он убедился, что всё не так просто в этой «хижине», как они называли свой-несвой домик на краю Английского сада.
Я написал только что: «Мони была последней в роду».
Но это не так, и я сейчас опишу, как это обстояло на самом деле.
Я едва не написал эту фразу, наверное, потому что у одного моего друга-писателя есть книга «Последние в роду». По-моему, она ещё не вышла, но кусочки из неё я то и дело читаю в фейсбуке, где он их вывешивает.
Он же, кстати, прочитав всё, что написано выше, призвал меня – не в первый раз – убрать из текста эти экспликации автора и рефлексию самого процесса (письма).
Я не спешу это делать ещё и потому, что это черновик, а в черновике чувствуешь себя совсем свободным, ну как будто пишешь «с голоса» – чирикаешь, free as a bird… хотя у меня это не так и после переписываний в дальнейшем (не только виа имейл с другом-писателем, но – переписываний текста, ну понятно, на то оно и «Внутреннее Переделкино») все эти явления «я» могут уйти из текста, написанного от третьего лица.
В предыдущей повести так не случилось, однако частота их появлений («я») в тексте сократилась существенно.
Кстати, был шанс, что вот этот рассказ вообще не будет отдельным произведением, а станет продолжением, «второй частью», возможно, предыдущей повести, которая называется «Тиновицкий».
Но я решил, что следующую воображаемую книгу – не знаю, нужны ли тут кавычки… Так вот я решил, что буду складывать книгу из повестей и рассказов, каждый (ая) из которых будут называться так же, как их главный герой.
Уже имеются: рассказ «Фло», повесть «Тиновицкий» и рассказ «Мистер Терри».
И вот, если будет ещё «Фриц», стало быть, то это всё вместе образует книжку.
Так мне во всяком случае представляется. Вчера же, гуляя по городу, я понял, что эта идея пришла ко мне в голову, возможно, под влиянием другой книги, которую написал другой мой друг и тоже писатель, неизмеримо более известный, чем я (как и автор «Последних в роду»), и там у него в последней на данный момент книге, тобто, такое устройство, только историй гораздо больше, с десяток, пару лет назад он присылал мне их по одной по мере их возниконвения… и все они названы по именам героев, и образуют все вместе роман о городе.
Ну, это не первый такой случай в литературе, так что это не такое уж прямо «влияние».
Суть же в том, что хочется, чтобы «телесные углы» персонажей вместе составляли сферу, в которую поместится весь город, вот из-за чего начинаешь городить огород.
У одного из этих моих друзей это Харьков, который сильно отличается от моего внутреннего Харькова, конечно.
У меня это должен быть Мюнхен, при том, что я эмигрант и никакого внутреннего Мюнхена у меня нет. На его месте – Харьков.
Но если это будет большая книга, то туда может войти ещё и «Пиноктико», т. е. мой роман, якобы переведенный с немецкого, «рукопись найденная в сарагосе», ну да, он не такой уж и большой… в общем, это всё пока из разряда «дурень думкою багатiє» – вместо того, чтобы писать дальше.
Ну, т. е. опыт такой уже есть – от лица немца, я скажу почему-зачем, это я как раз могу сформулировать.
Чтобы не попадать то и дело в привычное русло эмигрантского эпоса.
Тут ключевое слово «привычное». «Заезженное» – ещё точнее.
Т. е., не то чтобы я подхватил где-то – например, у одного ныне покойного критика, презрительное отношение к эмигрантам…
«Ненависть эмигрантов к самим себе» – как у Лессинга «евреев», да-да…
То есть – нет!
Критик, читая мою «Контору Кука», писал у себя в фейсбуке: «Мильштейн пока ничего. Подражает Грэму Грину».
Это меня рассмешило.
А потом вскоре: «Нет, не годится. Симулякр эмигранта».
Или он написал «эмигрант симулякра»?
Я точно не помню.
Он написал это, читая «Контору Кука», потому что был «комиссаром премии», на которую её выдвинула моя издательница.
Читал ли он до этого мои книги, я не знаю, не уверен, хотя он не раз хвалил меня в комментах у общих френдов, может быть, ему просто так нравилось, что не все Мильштейны такие, как мой однофамилец, которого он ненавидел всей своей путинисткой ненавистью, а я пока Путин не напал на мою страну, был довольно аполитичен и тому же однофамильцу при встрече говорил: «Ну да-а-а-а… Но я гражданин другой страны, живущий в третьей, и чё там ваш русский царь творит мне… не то чтобы по барабану, не совсем… но и не моего ума дела как-то».
Так всё-таки, симулякр эмигранта или эмигрант симулякра?
Не помню.
В общем, какой смысл в таком кунштюке, как писать от первого ли, от третьего ли немецкого физлица, я думаю, теперь понятно.
Остальное уже совсем банальности, как-то: «собирательный образ» и т. д. и т. п.
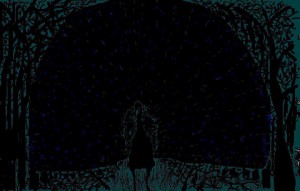
Фриц ли, Фло ли, или Йенс… Чем более бестелесный герой, тем более он телесный угол, который вручается читателю, как зонтик, который надо держать наоборот и смотреть сквозь него – «смотрите, он же почти прозрачный…»
Фриц ли, Фло ли, или Йенс… Чем более бестелесный герой, тем более он телесный угол, который вручается читателю, как зонтик, который надо держать наоборот и смотреть сквозь него – «смотрите, он же почти прозрачный…»
Но я, кажется, уже это писал выше, да и зачем ему при этом быть отягощённым моими старыми рефлексиями…
Нет-нет, мой герой это не рефлектор, он – рефрактор-телескоп, линза-складной зонтик, он не отражает, а – чтобы сквозь… я вижу-вижу, что я уже запутал вас, я и сам запутался, всё-всё, я прекращаю это безобразие, да это уйдёт при переписывании с вероятностью в
50%.
Фриц ли… Ну да, Фриц тут подходит, имя ведь было у нас нарицательным, если вы помните.
Приехав в Германию, точнее, пере-ехав, я через несколько лет это вспомнил и удивился – за все первые годы я не втречал ни одного Фрица.
А потом встретил. А ещё через несколько лет второго, и вот этот – новый герой мой, стало быть третий знакомый по имени Фриц.
Полное имя Фридрих, фамилия Винкель, журналист.
Уже темно, т. е. телесный угол Фрица чёрный, но в него попадают, «сходя за конус…», светлячки Английского сада.
А там сложная система огоньков, есть стационарные двух видов – мигающие, как на мусорных баках марки «Big Belly», у которых на крышке солнечные батареи, и от них заряжается вставленный в бак компрессор, периодически, как прибор для измерения суточного давления, сжимающий мусор до компоста.
Днём они, стало быть, заряжаются от солнца и глотают всё подряд, а ночью мигают в темноте сада зелёной лампочкой, как спутники в чёрном небе.
Если бы их было побольше, то это выглядело бы как такая гирлянда, наброшенная на парк, но их не так много, и в общем числе мигающих и немигающих, белых… с этакой синевой (их больше всего), красных… и вообще – разноцветных огоньков, зелёные мигалки подстанций круговорота материи не так уж и заметны.
Зато белосиних действительно много – это и велосипедисты и джоггеры с «шахтёрскими фонариками» на голове, некоторые бегуньи светят вежливо не прямо вам в лицо, а себе под ногами, образуя лучом перед собой чёткий кружок на дорожке, над которым темнота, а потом вверху – голубой огонёк, смотрятся они неплохо, может быть, эти вот две, что пробежали, как раз Мони и Уши, наши протагонистки, они тоже здесь бегают…
Плюс собаки с их светящимися ошейниками, маленькие (по-баварски – «цамперли», независимо от породы), средние и большие.
Нет, это не так что весь сад ночью светится, конечно, он же огромный и если зайти подальше, там вообще это большая редкость – огонёк, что жёлтый, что синий, а особенно живой… но и так, чтобы уйти совсем в сплошной мрак вряд ли получится, есть же ещё и фонари, и фонарики, не везде, но есть, а иногда звёзды-луна, что ещё…
А, ну велорикши, днём и не совсем ещё ночью их можно увидеть: прямо на вас в темноте движется по аллее нечто, состоящее из нескольких огоньков… Фриц, когда рикши только появились, первый раз думал, что это два велосипедиста справа и слева и стоял посередине, думая, что они объедут его с двух сторон.
Наверно, половина этих светлячков всё-таки собаки, огоньки которых интереснее других во всех отошениях: перемещаются повсюду, а не по прямой, и они разноцветные, а то, что среди них тоже много синих, как у бегунов, ещё прикольнее, потому что кажется, что это гномы, ну да, where is a pug and where is a puck – you never know в дальних чащобах самого английского в мире сада.
В ближних краях его собаки отчётливее и больше фонариков – вон сколько их на одной только Китайской башне, и, если ещё не очень поздно, можно встретить огоньки ларьков – но это самые редкие, их несколько штук на весь сад, который сам по себе величиной с уездный город.
Есть ещё одно озеро, как минимум, но оно уже в такой глубине, что там не плавают огни,
в отличие от Кляйнхессенлое, где сейчас находится наш герой, раздумывая, не зайти ли в самом деле в «Зеехауз» и отведать там… скажем, «медальон из морского чёрта» – он задумчиво читает меню… потом снова смотрит на воду,
в которой плавают огни и решает, что не зайдёт, нет, поужинает в каком-нибудь другом месте, да он ещё и не нагулял аппетит, так что лучше вот так идти, думает он, never stop walking.
Последней в роду оказалась хозяйка домика, который стоит прямо возле Английского сада – почти так же близко, ну чуточку дальше, чем дом-ателье скульптора Эдмунда Пухнера на Кеферштрассе, где мы пересекались, кстати, несколько раз с Фрицем и которого – домика Пухнера, больше нет, его снесли и построили на его месте бетонный многоквартирный дом, не такой большой, как на месте «Швабингер-7», с которого мы начали этот расходящийся во все стороны рассказ.
Нет-нет, мы сейчас соберёмся, Ordnung muss sein.
Рената Шульце , хозяйка замечательного прежде всего его местонахождением, домика, оказалась последней в своём роду: когда.она умерла, её земляки не смогли найти, не то чтобы потомков, но даже самых отдалённых родственников 102-летней женщины.
Решено было тогда на некоем общем собрании посёлка следующее: поисками воды на киселе по всей Земле займутся адвокаты, а пока суд да дело, ключи от домика вручить Мони, которая не состоит ни в каком родстве с фрау Шульце , но родом из того же посёлка-городка, что покойная, и так же, как и фрау Шульце переехала в юности в Мюнхен, город дорогой и непростой для жизни. По сути бесплатно. Ну, только коммунальные платежи, электричество, вода, газ, дрова… Второй этаж (т. е. по-немецки или английски – первый) при этом оставался за фрау Шульце – там были её вещи и хотя у Мони были от этих помещений ключи, она заглядывала туда крайне редко, а Фриц, кажется, вообще ни разу, даже в тее годы, когда был там постояльцем.
Хотя с некоторым количеством содержимого сундуков фрау Шульце он познакомился. Но – внизу. Мони и Уши иногда надевали платья фрау Шульце , это был как бы сказать, «перформанс»… Ну да, пару раз они устраивали такие особые вечеринки, на которых был дресс-код: они гостей просили прийти в одежде, в которой, по крайней мере, есть какие-то аллюзии на двадцатые годы или пятидесятые… кажется, ещё и «парти-шестидесятые» было, а впрочем, в этом Фриц по прошествию пятнадцати лет был не так твёрдо уверен.
Он помнил, что девочки на «двадцатые» пригласили DJ Fritz’а, ja-ja, его тёзку, который пришёл с чемоданом, где были пластинки чуть ли не грамофонные, во всяком случае, невероятно старые, при этом все в прекрасном состоянии, большинство из них вообще почти не трещали, и это было очень странное вневременное чувство, во время этого ретро-парти в увитой плющом избушке Мони и Уши, где, как я давно уже догадался, прошли, возможно, что и лучшие деньки моего персонажа… Дас ва фантастиш, загте эр, я, кля.
Когда он попал к ним в дом первый раз – после описанных нами уже событий в «Швабингер-7», под утро, но, кажется, ещё не начинало светать, наверно, зима или осень, избитый – кровь так особо не пролилась, но посинела hier und da – и сильно пьяный – они ещё долго квасили, т. е. собственно Фриц, а девочки пили, кажется, один и тот же лонг-дринк, что начали в штамм-кнайпе, ну а Фриц – польскую водку, уже забыв про лёд, водка под весь этот металл как-то особенно хорошо лилась… так что на улице выяснилось, что Фриц не очень-то уже и стоит на ногах.
Нельзя сказать, что он вообще не помнил, как первый раз шёл к ним, хотя он так и говорил потом, но это просто для красного словца: «Проснулся я в толстой английской пижаме в маленьком домике на краю Английского сада…»
На самом деле он шёл сам, но – поддерживаемый с двух сторон, его не волочили, ноги его шли или даже как-то так начинали бежать, периодически семеня, и он не упал ни разу благодаря поддержке с двух сторон. А может, и так бы не упал, у него был хороший вестибулярный аппарат… Но всего он, конечно, не помнил. Девочки потом говорили ему, что он нёс какую-то чушь всю дорогу, спрашивал, куда они его ведут, вырывался, то ли в шутку, то ли нет, понять уже было его трудно, а узнавая некоторые дома – например, когда они проходили мимо испанского ресторана, он вдруг захотел паэлью и стал тянуть их туда, несмотря на то, что было уже четыре или пять утра, ну какая там уже паэлья… «“Ну и что“, – рассказывала Мони, смеясь, – говорил ты, „а мы на второй этаж зайдём – к Господину Волшебнику, ха-ха, помешаем ему дописать «Будденброков»! Ведь без конца этот роман будет лучше, вам же тоже не нравится последняя его часть, ну признавайтесь… Куда вы меня несёте?..»
В доме они отпустили его, подведя к гостевой кровати, он упал и показался им вполне милой такой игрушкой-неваляшкой.
Мони и Уши с удовольствием нарядили Фрица в смешную пижаму кого-то из членов клуба мёртвых друзей фрау Шульце, и попросили не снимать её, когда он проснулся и услышал в том числе мужские голоса – в доме были гости, и Мони вошла к нему в комнату и попросила его сделать одолжение: сделать вид, что он у них живёт, вот так в этой пижаме и колпаке, не надо ему быть вместе с гостями, просто, если он пройдёт пару раз мимо двери, этак заглянуть на секунду, и они тогда скажут гостям обыденным тоном: «Das ist unserer Hausengel» (домовой то есть). Фриц всё это проделал, если просят… Прикольно, подумал он, у них что там, спиритический сеанс? Вызывают дух старушенции, а заодно и ейных друзей, в такой роли я ещё не был, при жизни это почётно…
Видимо, он хорошо справился с ролью, и когда гости ушли, и девочки узнали, что Фриц ищет жильё, потому что однокомнатную квартиру, которую он снимает, нужно освободить – хозяйка намерена запустить туда своего близкого родственника… Девочки сказали, что могут сдать ему комнату, притом очень дёшево – «Такого ты не найдёшь больше нигде». Услышав цену, Фриц и в самом деле изумился, но не поспешил сказать «согласен».
Поразмылив немного, он однако решил, что невозможно отказаться, несмотря на то, что он имел очень небольшой и не очень светлый, скажем так, опыт жизни в Wohngemeinschaft, ну т. е. в коммуналке.
И не то чтобы он понадеялся, что будет жить с одной из них или с обеими не в коммуналке, а в коммуне, какие были в шестидесятые – как в своё время его лихая в юные годы матушка.
Хотя в тот момент он ещё не отбрасывал и такую возможность.
Несмотря на то, что близость, если можно это назвать близостью, с Мони, была однократной и больше походила на обследование у врача, причём самого широкого профиля – как будто его прощупали, ну да, прежде чем пустить в дом в качестве жильца, зачем непонятно, ну так, просто на всякий случай… иногда – очень редко – этой ведьмочке надо было всё-таки, наверно за что-то просто подержаться, т. е. за ветку… которую она даже взяла в рот в какой-то момент, но ненадолго, не больше десяти секунд… После чего сказала заговорщическим тоном странную фразу: «Ты ведь не хочешь кончить, правда?», и как Фриц ни уверял её, что ровно наоборот, она ничего больше не сделала и не позволила сделать с ней.
Но он всё равно воспринял это как некое обещание, и, так как, ему на самом деле очень хотелось заняться любовью с обеими подружками, то он сказал себе: надо подождать, может, всё ещё будет… А цена уже была такой, что, как мы уже сказали, Фриц переехал жить к девочкам.
Мони не брала с Уши никакой платы, в отличие от той, что взимала с Фрица, две девицы пополам делили коммунальные расходы, а после его поселения у них, платили каждая треть, ну понятно.
В надеждах на «приложение к договору о съёме комнаты», так сказать, Фриц обманулся. Его, правда, ещё пару раз не только наряжали в пижаму, но и раздевали, и даже купали – девицы играли с ним, как с ребёночком, но иногда и как со взрослым уже совсем мальчиком, и хотя это всё было не часто, но, скажем так, по праздникам и только в первое время – случалось.
«Проникновения» не было ни разу, фелатттио тоже не повторялось, при том что Уши… Ну да, он был уверен, что Уши бы точно согласилась и на то и на это, но она строго соблюдала кодекс, установленный подругой.
Фриц не верил, что у Уши вообще могут быть какие-то фобии… Он как-то спьяну и в отстутствие Мони прямо так и спросил… как же так, что она, такой «здоровый организм», как он выразился… предпочитает жить с этой прибитой Моникой, а не с каким-нибудь большим весёлым баварским дровосеком…
«Вас вуист ду висн?» – хитро улыбнулась Уши («Что ты хочешь узнать?» – сказала с сильным баварским акцентом).
И сильно толкнула его в грудь, когда он после слов, что он, может, и не такой, какого ей бы надо найти… но всё-таки… распахнул было свои объятия.
«Вот так они и жили».
Тут надо сказать вот что. Фриц тогда ещё не стал таким мизогинистом, каким он стал по прошествии многих лет и нескольких, скажем так, браков (гражданских то есть, он ни разу не расписывался).
Т. е. вообще через много лет после того, как съехал из домика этой парочки, и уж точно не из-за них, т. е. не из-за Моники и Урусулы.
Хозяйки Фрица любили друг дружку страстно, и если бы не древние дубовые двери их спальни, подбитые войлоком, Фриц так долго – почти два года – у них, возможно, и не продержался бы – мешали бы спать в те ночи, когда он был один, а таких ночей было большинство.
Но благодаря этим дверям он их совсем не слышал. Да и не так уже громко они это делали, несмотря на страсть, а иногда так и вовсе поразительно беззвучно, почему он и заглянул к ним один раз, думая что их нет, и он, не понимая, померещилось ли ему, что что-то там тихо шуршит, это было днём… застыл на пороге их спальни, ошеломлённый.
В первый момент ему показалось, что Уши держит в руках не Мони, а что-то запредельное… ну что-то среднее между поперечной флейтой и срединной частью мясной туши… или как надувают куклу, воздушный шарик, матрас… и в то же время кусают мясную тушу, подвешенную на цугундер… Да нет, в том-то и дело – ему привиделось в первый момент что-то, для чего у него не было слов, да и не могло быть, пока он не понял, что Урсула держит в руках просто перевёрнутую Монику – которая, в отличие от Урсулы, его увидела, они встретились глазами… И больше он их не лицезрел в постели никогда, это был один-единственный раз.
«Как будто Бэкона перевернули вверх тормашками, и получился очередной Базелиц» – не слишком оригинально сострил он, подводя итог незначительного эпизода, который он мне рассказал не на балконе, а когда мы сидели с ним как-то на воскресном солнышке на Виктуален-маркте, пили пиво «хофброй», и как-то заговорили «о бабах», что делали редко, причём в основном в тот день говорил я, и это уж точно не имело никакого отношения к этому произведению.
Фриц же произнёс свою речь о женщинах, стоя на балконе.
Обращаясь не вниз, как Бисмарк с балкона Ленбаххауза, или там Бесноватый… а к гостям, которые сидели там же – балкон у Фрица был большой, да и есть, собственно, куда ему деться.
И я там был и пил не мёд, но что-то вкусное…
Вспомнил – мы пили ром, который Фриц тогда же привёз из Кубы, и вот в какой-то момент – что стало поводом, я уже и не вспомню, ну какая-то реплика кого-то из гостей… Фриц вдруг встал и стал расхаживать перед нами по балкону и произносить смешную, как мне сначала показалось, речь.
Т. е. преднамеренно смешную – как кабаретист, проще говоря, «погнал»…
Но через какое-то время я понял, что он говорит всё это совершенно серьёзно…
Я потом ещё, слушая его, подумал, что эту филиппику надо бы записать для будущих поколений… динозавров, ну да… но не записал, у меня не было с собой диктофона, и смартфона тогда ещё не было.
Фриц, правда, говорил, что эта спонтанная речь потом легла в основу одного из выпусков его колонки в каком-то вкладыше в какой-то газете, то ли Зюддойче, то ли Ди Цайт, то ли что-то попроще… я не видел, и не буду же я рыться в архиве, да и нет у меня доступа к архивам, я же не Фриц и не журналист…
Речь была длинной, но состояла, собственно говоря, из одного тезиса.
Все женщины, по словам Фрица, с которыми он жил, оказывались в итоге чудовищами, которые – каждая по-своему едва не подвели его под монастырь, скажем так, хотя он пользовался, естественно, какой-то немецкой идиомой, но какой точно, я не помню… да её ведь всё равно надо было бы как-то переводить… а тогда уже можно cказать, работая в режиме воспроизведения, нехитрый каламбур: все вместе они его таки да завели в особый такой… монастырь, ну да.
Да, Фриц, как я понял где-то к середине монолога на балконе вовсе не «стебался»: он на самом деле возненавидел женщин, по крайней мере, немецких, всем сердцем.
Я знаком с ними со всеми только по его альбому – у него есть такой альбом, где все или не все… ну в общем, большинство его бывших. Как правило, фотографии чёрно-белые, он тогда увлекался фотографией, а чёрно-белая… ну понятно.
Я не увидел среди них ни одной некрасивой, кстати, и при этом ни одной явной стервы, напротив, все они обладали мягкими и приятными чертами и показались мне не только красивыми, но и одухотворёнными.
Я мог бы, наверно, влюбиться в каждую из них.
Но речь не обо мне, а о Фрице.
Который, впрочем, не мог бы, а – влюблялся, надо полагать, в этих женщин, и сколько-то шагов до ненависти от любви с каждой из них проделал, т. е. точно не один (шаг).
Тех, с которыми был one stand или чуть более того, в его альбомчике, естественно, не было.
И не было там Мони и Уши, о которых, в отличие от своих бывших, Фриц никогда не говорил ничего плохого.
А вот каждую из своих бывших подруг он ненавидел, при том, что грехи этих милых с виду женщин (одну только я видел живьём – мы встретили её в баре, и они общались с виду вполне, кстати, доброжелательно) были довольно разные и несопоставимые друг с другом, в его «обвинительном слове» они все шли вместе как соучастницы одного и того же ужасного преступления.
Хотя преступление как таковое совершила только одна из них – сбила человека, несмертельно (Фриц это мне рассказывал, когда уже отложил альбом, т. е. не указывая, какая именно), но всё-таки довольно сильно ранила, и хотя она была за рулём, попыталась всё переложить на Фридриха Винкеля, т. е. сказала, что за рулём был он.
Но это был только один такой случай в его биографии, а «преступления» остальных его тёток были просто, скажем так, против человечности.
Ну, они бросали его больного, то с гриппом, то с отравлением, на произвол судьбы, там и сям, и в отпуске, на каких-то южных островах то есть, и в Мюнхене, всегда одного с большой температурой, и вообще в моменты его слабости – той или иной, живой человек всё-таки…
Ну, так вот ему везло в жизни.
И потом женщины бросали его навсегда, уходя к его друзьям, как правило, более благополучным, чем он… Хотя вот эта – он указал мне на неё в альбоме, сначала долгое время изменяла ему с его тогдашним соседом-нытиком и – лучшим, как ему казалось, другом, как он его воспринимал, пока они не съехались вместе, а Фриц узнал обо всём уже только после того, как не нашёл ни подруги, ни друга-соседа.
«Особенно, – говорил Фриц, – мне впечатались в сознание её слова… Когда я говорил ей, как можно столько ныть – как наш сосед, который при каждой встрече ноет и ноет… Она говорила мне: «Vergiss nicht: du hast eine Rückendeckung. Du hast mich». («Не забывай, что у тебя есть тыл. Твой тыл это я»… Впрочем, может быть, я перевожу не лучшим образом… Тут ещё играет роль «Rücken», т. е. «спина», и наверно какие-то производные от неё, «за моей спиной», «ты за мной как за стеной»… «Представляешь? – говорил Фриц, – она уже спала с ним в это время за моей спиной… Нет, это непостижимо!»
«Системы строгой какой-то в этом нет, – говорил Фриц, – кроме того, что предательство это их вторая натура. Но всё-таки большинство уходили, так сказать, на повышение… К более благополучным… Вот эта ушла к тогдашнему главреду хотя я бы не сказал, что он такой уж благополучный… Ну вот всё что угодно, одна к никчемному соседу-нытику, не знаю, зачем, может, у него член был длиннее на два сантиметра… другая к по-настоящему богатому и ещё не старому при этом… по-разному… но всегда в конце было предательство», – продолжал он, но это всё уже было совершенно банально и не так интересно, как на балконе перед гостями, когда Фриц по-настоящему блеснул на фоне звёздного неба красноречием, которое я, к сожалению, воспроизвожу только в виде Zusammenfassung… а это ещё к чему в моей прямой речи немецкое словцо… «Резюме», да, тоже не слишком русское слово, ну да ладно.
Резюмируя его речь, стало быть, понимаешь, что получается скучно: ну, он там говорил, что они всё время что-то от него получали – на психо-физическом уровне, ничего фактически, кроме известно чего, не давая взамен, да и то, что при этом на самом деле происходит… Как у Сартра, – подумал я, – в каком-то рассказе… Но в каком именно я это уже читал – я не смог вспомнить, т. е. это где угодно было, но у Фрица была какая-то сартровская при этом интонация, ну т. е. рассказчика Сартра…
Слушая на балконе «мизогенный рэп», я ещё и порывался из чувства противоречия… ну, напеть, что ли, арию «Без женщин жить нельзя на свете белом, нет, в них солнце мая, в них любви рассвет…», т. е. подстрочник (на немецком я её не слышал), но Фриц говорил так быстро и не прерывясь ни на секунду – что между его словами невозможно было вставить даже реплику, не то что арию.
Видно было, короче говоря, что человек хорошо подумал об этой жизни и говорит о наболевшем, смайл.
На мой вопрос как бы в шутку, а может ему надо было попробовать со славянской девушкой Фриц помотал головой и рассказал вполне серьёзно, что у него есть вполне достоверные сведения о том, что русские ещё хуже.
Что они просто терминаторы, которые полностью должны выпотрошить мужчину, прежде, чем его бросить и бросают они при этом уже пустую оболочку, тень, забрав всё, что можно, и не только материальные ценности хотя их, разумеется, в первую очередь.
Он привёл несколько примеров не из своей жизни, это были истории его друзей, знакомых, сгоревших внутри дотла, превратившихся в живые трупы, я выслушал, покивал и не стал пытаться его переубедить – зачем бы мне это делать?
Я ни с кем конкретно не собирался его знакомить, я сказал просто так, когда Фриц рассказывал мне истории о русских (ну или славянских, он их называл просто русскими) женщинах-потрошительницах, я вспомнил, как когда-то собирался начать новую жизнь в качестве купца первой гильдии.
Идея была проста: завезти в Германию новый вид водки. Да-да, в магазинах здесь в те незапамятные времена тогда была только «Московская»… Это было давно, но в России и в Украине тогда уже выпускались десятки видов, и вот я предложил такую идею владельцу штамм-кнайпы, и он вроде как загорелся попробовать сначала разливать её у себя непосредственно в кнайпе, а потом, может быть, вообще стать дистрибьютором по всей Германии, ну как пойдёт.
Я съездил и в Киев и в Москву, везде договорился о пробных поставках, вернулся в Мюнхен, но Роберту к тому времени кто-то рассказал какой-то анекдот о русской мафии, голова в кустах и пуля-дура… И это произвело на него, как ни странно, такое впечатление, что он передумал.
Может быть, всё к лучшему, кто знает, где бы мы были, если бы попробовали себя в водочном бизнесе, в то время, говорят, ещё более опасном, чем поставки проституток и наркотиков, ну или не менее во всяком случае.
Да, и кто знает, не выпотрошила бы и в самом деле Фрица какая-нибудь… Так что и писать было бы уже не о ком, смайл.
Не всякий случай: о русских, украинских, филиппинских… Я лично не вижу разницы в людях не только в зависимости от их цвета кожи, но и цвета государственного флага, такой у меня своеобразный дальтонизм, мне кажется, что то, что на самом деле интересно в людях, от этого не зависит (тем более в женщинах), поэтому я и пишу свою «немецкую повесть», осознавая, что она может быть в силу своей неаутентичности, скажем так, никому не интересна, и перед этим ещё две-три написал, можете считать, что у меня ну вот такая ещё дополнительная ко всему прочему «энергия заблуждения», как называл Толстой это в более широком смысле, конечно, т.е. то, что позволяет преодолеть чувство тщеты и писать дальше.
Но мы забежали вперёд, вернёмся в дом фрау Шульце, пока я тут сам не превратился, понимаете ли в хор древнегреческого театра…
Апропо театр… Ну да, фрицы и театр, это почти как кино и немцы… Если его (Фрица) послушать, то это был спонтанный театр: то он сам в роли призрака, то проститутка в роли возлюблённой (я не помню, писал ли я, что Фриц несколько раз приводил проституток, за небольшую доп. плату игравших роль бесплатных девушек для one stand night, как он мне признался, с двойной целью, т. е. не только для секса, а и чтобы генерировать ревность в Мони, пока не убедился, что ей это совершенно до лампочки), роли не слишком оригинальные, статистические… Но слово «театр» как-то там появлялось у него в потоке сознания, помимо этого, почти постоянно… т. е. живя в домике, Фриц часто ловил это лёгкое состояние театральности, особенно летом, когда то и дело скрипели ворота, и во двор прямо из парка заходили те или иные гости, это ведь был ещё и «проходной двор» у Мони и Уши, в том смысле, что знакомых у них была тьма, и они, по-видиму, так и хотели, чтобы дворик был как театральная сцена, куда выходят, произносят реплики, после чего некоторые остаются, некоторые снова уходят сразу же за кулисы, особенно летом, в выходные.
Фриц не рассказывал мне всё это подробно, но я могу себе довольно чётко представить этот, скажем так, биотоп, эту форму жизни… потому что видел не раз и тот домик снаружи, и, как я уже говорил, я часто бывал в похожем дворике и домике скульптора из Тироля внутри, который был буквально по соседству с домом, где за сто лет до этого жил Рильке – прямо рядом с домиком-ателье Эдмунда, Кеферштрассе 11, где поэт, как известно, жил два раза в общей сложности года полтора, избушка и дворик Эдмунда Пухнера были просто с другой стороны этой узенькой улочки, рукой подать, пять-шесть шагов…
Да и как можно рассказать подробно два года жизни?
Пожалуй, что всё что Фриц мне говорил о том периоде, я уже с лихвой воспроизвёл, ну т. е. добавив ещё от себя, ну вот так уже пошло-поехало в этом тексте, может, сойдёт мне с рук, может, нет… главное, чтобы этого не было слишком много – сорок бочек арестантов отсебятины тут точно не покатят… но это я как раз держу в уме, да.
Фриц зато подробно описывал мне своё недолгое возвращение в домик через несколько лет после того, как он оттуда съехал и купил в рассрочку, сделав при помощи родителей первый взнос, маленькую уютную двухкомнатную квартиру в Вестэнде.
Ему позвонила Мони и спросила, не может ли он пожить у них в их отстутствие? Зачем? А у нас кошки завелись. Они в общем-то вполне самодостаточны, и можно было бы попросить тебя просто приходить их кормить… Собственно, можно и так, просто я подумала, что тебе ездить два раза в день туда и сюда… Мне кажется, что тебе нравилось у нас жить, Фрицхен, разве нет? Ты любишь этот домик, этот парк… Вот и смени обстановку. Если ты с подругой, бери и подругу, естественно, можешь устравивать парти, можешь делать всё что хочешь.
«Ты не боишься, что мои гости разнесут вашу хибару на фиг?» – спросил Фриц.
А что с ней станется?
«Ну, я не знаю, французские двери разобьют…»
Нет, не боюсь. Во-первых, я тебя знаю, да и большинство твоих друзей, ну может, только самых новых не… Во-вторых, у нас новость, Фриц: мы через полгода должны оттуда съехать. Ну да, рыдаем с Уши в две глотки, слышишь, вот она и сейчас плачет… Привет! Привет, Уши, рад тебя слышать. Да, я тоже плачу… Не слышишь? Но жалко, правда? Нашли родственников, представляешь? «А может, сочинили? Придумали?» Не знаю… Не исключено, но что мы можем сделать, всё официально, нарисовались наконец дальние родственники… Нашли, как-то это доказано, их дальнее родство, в общем, став внезапно наследниками, часть из них, причём, та что уже получилась в результате смешанных браков с местным населением, скажем так… решила вернуться на родину из Африки. Ну да, представь. Получили «письмо счастья», ха-ха, точно-точно… Только не из Африки, а наоборот в… А ты нас потом пустишь? Ну и что что тесно, мы же маленькие, ты нас забыл, Фриц, мы поместимся… Ха-ха! Я шучу-шучу, у нас уже есть куда съезжать, мы с Мони не пропадём, дорогой Фриц. Так как ты на счёт того, чтобы пожить две недельки с нашими кошечками? Мы? Мы в это время будем в Таиланде.
Фриц хотел сказать, что у него отпуск, который он вообще-то тоже намеревался провести где-нибудь в более тёплом месте и сухом, чем их избушка (тонкий запах плесени там поднимался из келлера вверх, что, впрочем, придавало атмосфере в доме даже какую-то прелесть, „wie auf dem Land“, как в деревне, запах из погреба… Фриц в общем согласился, потому что на самом деле и так собирался остаться дома, никуда не ехать, чтобы посвятить отпуск давним литературным амбициям, но колебался, слабо веря, что у него что-то из этого получится, да и потом писать можно и на острове-на пляже… Хотя он понимал, что на острове вряд ли, он уже брал так с собой лэптоп с начатыми рассказами, и никогда там не работал над ними. А вот в пустой избушке, на новом-старом месте… Это не хуже, а даже лучше, чем в квартире, где его отвлекало то одно, то другое, звонки… А заодно и отблагодарить таким образом девчонок, которые держали его у себя почти так же бесплатно, как своих новых домашних животных.
И хотя у него была диагностирована в числе прочих аллергий аллергия на кошек, он сказал себе, что ведь ни разу в гостях не испытывал ничего подобного в пристутвии этих существ, в отличие от наличия в воздухе цвета некоторых растений по весне или присутствия в пыли «мильбен», т. е. тварей похожих на тех, что были в фильме «Чужие», только размером поменьше, я не знаю, как они называются по-русски, наверно, «пылевые клещи»… да вот так и называются, я погуглил. А на кошек Фриц не чихал никогда и, в общем, он согласился за ними ухаживать и превратился на три недели в писателя, т. е. существо, которое, может быть, и достойно иногда описания само по себе, но только не в то время, когда оно работает: стук-стук по клавишам, да и всё… вышел прошёлся по саду и опять – стук-стук… стук-стук… «тем и интересен», ну да… или – не интересен… в общем, то, что он давал мне почитать в виде сухого дайджеста выглядит примерно так.
Однажды Фриц (ещё живя «в сенях» у девушек постоянно в качестве жильца), проснувшись в воскресное или субботнее утро и зайдя в комнату, которая была как бы гостиной, увидел, что у девушек необычная гостья.
Какая-то удивтельная дама в летах, которую Фриц так описал в своём рассказе, что я… не в силах воспроизвести, конечно, портрет, написанный им – пересказываю по памяти, а читал я его текст уже довольно-таки давно… Но я помню, что, читая это место – портрет визитёрши, я подумал, что он мне кого-то напоминает…
И вспомнил кого, по-моему, только потом: пани Броню.
Вы не знали её?
Ну как же, это была такая бабушка-фея летнего утра с улыбкой, которую трудно описать словами, но вот её как раз легко увидеть, если набрать «Петлюра и Пани Броня», уже видите, да?
«Альтернативная мисс Вселенная».
Я имел счастье видеть её один раз, будучи в гостях у друга-художника Зенина, который теперь там же, где и пани Броня…
Да и при жизни оба принадлежали одному примерно миру, можно было бы сказать, что Боря и был наш харьковский Петлюра (в смысле художника, а не исторического душегуба, конечно), если бы он не был одновременно ещё много кем… нашим харьковским… иногда казалось, что всем, да.
Так или иначе, но видел пани Броню он при жизни лишь раз. В дверь позвонили и когда Боря открыл, на лестничной клетке стояла пани Броня в балетной пачке и с золотистым огромным мечом (из фольги, что ли… ну да, из фольги, серебристый он был точнее), гастролировавшая тогда в Харькове вместе со всем театром, разумеется, и после паузы ещё несколько человек быстро поднялось по ступенькам, включая самого Петлюру.
Но не будем отвлекаться: очень похожая теперь вам ясно видно на кого, волшебного вида женщина сидела в гостиной.
Мони и Уши смотрели примерно на неё так же заворожённо, как мы с Борей Зениным на пани Броню, стоявшую за дверью как бы и в луче софита… и с мечом… и в пачке…
Здесь женщина была в длинном платье, и эта шляпка…ох, что-то было в ней такое, что и Фриц замер, опять-таки сказав себе, что живёт в театре, ну да, при этом в руке у женщины был бокал, на столике стояла бутыль с «Вдовой Клико» и полюбовавшись немного произведенным на Фрица впечатлением, эта женщина сказала:
– Как видите, молодой человек, мы с утра пьём шампанское! Так принято в Париже – настоящие дамы всегда пьют за завтраком шампанское.
Мони рассмеялась и представила Фрицу «лучшую подругу покойной фрау Шульце» Сузанну.
«И к тому же соседку» – добавила Сузанна, которая всё-таки, наверно, была младше своей подруги, но, может, и не намного…
Фрицу было любопытно, сколько женщине на самом деле лет, как будто он почувствовал, что будет писать рассказ, в котором Сузанне будет отведена главная роль.
Но не спрашивать же у дамы о возрасте…
А потом она пришла, когда девочек не было дома.
Она не стала открывать сама калитку, как это делали знакомые, а постучала, Фриц, который был дома один, услышал, и открыв, увидел зрелище, похожее на то, которое я уже описал.
Только тут она просила называть её Сузанной, и в руке у неё был не меч, а цветок.
Да-да, красный, что ли, цветок в горошочке.
Она протянула горшочек Фрицу и попросила:
– Вы не могли бы сделать мне любезность. Отнести его на могилу моей подруги Ренаты.
– Но я не знаю, где её могила, – сказал Фриц. – То есть даже на каком она покоится кладбище. И вообще – в Мюнхене ли? Она ведь родом была не отсюда.
– Не знаете? Жаль, – сказала Сюзанна. – Я тоже не знаю. Вроде бы помнила, но забыла. Ну тогда до свиданья, молодой человек.
И дама мгновенно завернулась в кулису. Исчезла за тёмной листвой сада. Вместе с цветочком.
Это был второй толчкок, после которого Фриц уже твёрдо решил написать садово- парковую ghost story.
Фотографии Ренаты Шульце в доме оставались, и Фриц их видел, и никакого особого сходства между двумя женщинами, судя по фотографиям, не было. Но в рассказе все снимки Ренаты таинственно исчезали ещё до въезда в дом девушек, и вот дальше там – в рассказе Фрица, начинались подозрения.
Собственно, из подозрений и состоял этот рассказ. Кроны ночного парка и подозрения.
Птички. Ветви.
В Английском саду живёт 50 различных видов птиц, это можно прочесть на большом щите, где изображены лишь несколько из них.
“Suspicions amongst thoughts are like bats amongst birds”.
Фрицу не нужно было выдумывать все подозрения, часть их он произносил, часть слышал своими ушами в протореальности.
То есть в реальности это были не то что подозрения, конечно, но, скажем так, лёгкие удивления.
«А где она живёт, собственно говоря?» – спрашивал Фриц девочек, и они отвечали, что понятия не имеют, от чего Фриц опять-таки чувствовал, что непременно напишет такой рассказ… «Может быть, в доме для престарелых?» «А где здесь рядом дом для престарелых? По-моему, ближайший на Остервальдштрассе, я там когда-то работала…» «Так что, это не так далеко…» «Да, но если она пришла спокойно оттуда пешком сама, она точно так же могла бы, скажем, и на кладбище к Ренате съездить.. Зачем она приносила сюда цветок и просила Фрица? И вообще, похоже, что она перемещается свободно по всему парку… А соседкой Ренаты она была, по её словам, лет пятьдесят…» «Ну, может, и переехала из своего домика в дом для престрелых – ближайший… или перевезли…» «Да, наверно… Но всё равно как-то странно немного, да…»
Такие вот примерно вечерние разговоры в гостиной… Имели место на самом деле, но для рассказа этого было мало, конечно, для рассказа нужны все пятьдесят видов птиц парка, его заплетающиеся ручьи и склоняющиеся над ними деревья, чёрный пруд в чащобе, где никогда не плавают огоньки, потому что отражения их там тонут… и нужен был туман, намазанный тонким слоем на огромные поляны, и месяц с ножичком, подрезающий ветви деревьев, и тот ларёк, возле которого всегда зимой горит факел, воткнутый в землю, возле которого всегда стоит один и тот же человек и смотрим на огонь.
Да и был ведь ещё интерьер в рассказе, второй этаж, где стояли «сундуки» и куда Фриц никогда не заглядывал, чему был теперь очень рад – это подстёгивало его воображение при рисовании собственно привиденческих картинок, которыми рассказ в свою очередь изобиловал настолько, что, возможно, он бы вообще соответствовал канонам этого жанра, если бы Фриц сознательно – в этом я уверен – их не нарушал чересчур долгими для жанровой литературы флэшбеками-оффтопами.
Например, вспоминая в очередной раз про «второй этаж», он где-то там погружался в воспоминания о том, как в студенческие годы подрабатывал на гардеробе в одном известном в те годы мюнхенском ночном клубе (по степени отвязности примерно похожем на берлинский Berghain – не теперешний, а тот дикий, прежний…) и там, столкнувшись с проблемой путаницы одежды: достаточно много людей за ночь после всех пертурбаций (Фриц сравнивал нутро этого клуба то с миксером, то со стиральной машиной… точнее, с таким Waschsalon’ом, где одежда сдаёт в стирку своих носителей), теряли номерки и под утро, расходясь домой, плохо помнили, в чём пришли, тыкали пальцем на чужую одежду, и потом были проблемы, ну понятно, это же был не строгий гардероб в театре, это был рейв-клуб…
И Фриц тогда ввёл своё ноу-хау: он стал подписывать одежду такими маленькими записочками с именами, на отрывных листиках, он просто приклеивал их к курткам.
И тогда столкнулся с проблемой следующего порядка: не меньшая часть, по его словам, посетителей клуба, под утро, не могла вспомнить своё имя.
Честно говоря, я потом его спрашивал – не придумал ли он это, и Фриц серьёзно ответил, что нет, ничуть, так и было, и он ввёл это в рассказ не только для того, чтобы наполнить бОльшим смыслом название («Гардеробщик») но и чтобы создать некоторое пространство, и всё бы хорошо… но там шли потом страницы с рассуждениями об индивидууме в современном мире, которые на мой вкус были немножко длинноваты.
После которых снова шёл основной мотив ghost-story: вариативно повторяющиеся появления Ренаты ака Сузанна, которые были довольно искусно сделаны, надо сказать, разве что… в этих местах менялся язык повествования, и вот это мне как раз не очень… и в общей сложности там было, по-моему, не меньше десятка выходов на сцену «соседки себя», она появлялась в разных местах – и в глубине парка проступала сквозь эти тонкие английские туманы, и в домике, спускающаяся по лестнице со второго этажа, ну понятно.
То на границе, то за границей сна, то за калиткой, то по эту сторону – прямо во дворике, среди кустов смородины, или бузины, тут и там то есть, неслышной походкой проходила она, после чего Фриц посвящал, как правило, страницу или две её прошлой непризрачной жизни, и это у него получалось, может быть, даже лучше всего остального.
Тридцатых и сороковых годов там не было, там были шестидесятые, преподавание в Школе моды и дизайна, поздняя любовь к известному художнику-ситуативисту, угар Швабингских кнайп, немножко 68-го и Немецкой Осени… Фрау Шульце, казалась, знала ещё при жизни всех на свете, и не только в Мюнхене, Фриц пару раз переносил её с не совсем понятной мнецелью в декорации своего родного городка на Севере, а в Кёльне он сводил её с тамошними селебрити, истории о которых он наверняка слышал от родителей.

Он помнил, что девочки на «двадцатые» пригласили DJ Fritz’а, ja-ja, его тёзку, который пришёл с чемоданом, где были пластинки чуть ли не грамофонные…

Он помнил, что девочки на «двадцатые» пригласили DJ Fritz’а, ja-ja, его тёзку, который пришёл с чемоданом, где были пластинки чуть ли не грамофонные,
Рассказ «Гардеробщик» был отвергнут всеми без исключения издательствами.
Может быть, не понравилась некоторая архаичность языка и вообще манера подачи, которая у Фрица была местами преднамеренной стилизацией, а лекторы издательств могли морщить от этого нос, как от просыпавшегося тут и там преднамеренного нафталина, я не знаю.
Может быть, вообще нет никакой причины в том, что книга не вышла в свет (рассказ Фриц хотел издать отдельной книгой, то есть «рассказ» по-немецки это и маленький роман, и повесть, маленькая жизнь… и у Фрица была скорее повесть, порядка 100 страниц, напечатанных с большими отступами и полями), кроме невезения, но так или иначе, после того, как рукопись отвергло 22-е, что ли, издательство, Фриц плюнул на это дело и вообще с тех пор почти ничего не писал НЕ для газет.
У меня была знакомая, кстати, которая примерно после этой цифры сохранила выдержку, послала свою рукопись в 23-е издательство, и там она была принята, и книга вышла, и даже пользовалась определённым успехом.
Всё бывает, но у Фрица не сложилось, что, может быть, и к лучшему, потому что сказать, что рассказ уж так был хорошо, я тоже не могу, и что бы ждало нашего Фрица, если бы литературные амбиции всерьёз отвлекали его от журналистской работы, сказать нельзя, но скорее всего, ничего хорошего, в смысле, для его жизни, это не принесло бы, маленький тираж, который и тот не раскупается, а изымается из магазинов и идёт под нож или продаётся меньше чем по 50 центов за штуку в сети, как у одного моего знакомого, на книгу которого вышла даже хорошая рецензия в «Зюддойче Цайтунг», но – поздно, книгу магазины уже перед этим поспешили «родить обратно».
Да и при более благоприятном появлении первой книги на свет вероятность того, что Фриц не пожалел бы потом о незаработанных деньгах и ненаписанных статьях, по-моему, достаточно мала.
Но не будем предаваться спекуляциям, так или иначе, не сложилось, хотя почти две недели своей жизни в компании трёх кошек в домике возле Английского сада Фриц посвятил литературе.
Кошки не причиняли ему больших неудобств, разве что перед сном, т. е. когда они видели, или слышали, что Фриц прекращает стучать и движется в сторону кровати, они входили в комнату и начинали тереться о его ноги, а потом, когда он ложился, они пытались и лечь к нему в постель. Фрицу это не нравилось, и он выгонял кошек из комнаты, плотно закрывал дверь, и вроде бы проблемы были таким образом решены. Правда, если он вставал ночью в туалет, то возвращаясь, на всякий случай зажигал в комнате свет и даже смотрел под кроватью. Кошки, впрочем, которых звали Лола, Таня и Сильва, были как бы сказать… у них была собственная гордость, и попробовав залезть к Фрицу в постель несколько раз, в первые дни-вечера, они больше так особо и не старались, или он просто заранее закрывал дверь, ещё до того, как начинал отходить ко сну, так или иначе, это нельзя было назвать большим неудобством.
Фриц после первой их попытки, когда он их выгнал и затворил дверь, опасался, что эти твари ещё и будут скрестись… но напрасно – за дверью была тишина, и он, лёжа в кровати, подумал: они что, привыкли спать с Мони и Уши? Не мешали они им заниматься любимым делом? Наверно, нет… Киски и киски… но у тех коготки… А может, они с ними и не спали, когда приедут, спрошу, – подумал Фриц, засыпая.
Но не спросил.
На следующий день дом начал на него давить… Ну, знаете, как бывает, стены давят и кажется, вот-вот упадёт потолок… т. е. платья фрау Шульце в сундуках над ним как будто зашевелились, хоть он и понимал через секунду, что это шуршит где-то на кухне семейство кошачьих… но и сами кошки всё-таки ему поднадоели, с их многозначитальными взглядами и огоньками в ночи…
И Фриц улетел из слишком плотно окружающей его среды, как бы отчасти уже зацементированной прозой, материал для которой черпался из той же самой среды: штайн фюр штайн, как пел Раммштайн… мауэр их дих райн… Ну что-то он ощутил такое – что сам себя замуровывает в этот хойзхен (домик), который в свою очередь погружается в раствор цементного Английского сада (попробуйте пройти по его цементным дорожкам, когда сыро, и вы поймёте… особенно осенью, когда под ногами вы увидите впечатаный туда палимсест из листьев разных столетий).
Фриц без особого труда нашёл себе замену – старого приятеля, которому он полностью доверял.
А уж будет ли шок у девочек, когда они обнаружат в доме не Фрица с хипстерской причёсочкой и саркастической улыбочкой, а лобастого Штефана-правдоруба c лысой большой головой, он не думал… т. е. не думал, что это их сильно удивит… и они ведь сами говорили, что состояние строения их больше не волнует, ну т. е. не совсем после нас потоп, но как-то так, да и потоп как раз он, Фриц, когда писал не статью, а «рассказ с духами» – способен был учинить с гораздо большей вероятностю (оставить в задумчивости кран какой-то открытым над полной мойкой, или там шланг забыть в саду, например), чем Штефан, которому Фриц доверял больше, чем самому себе, и когда тот приехал со своей извечной гитаркой в чернильном чехле и зелёным рюкзачком, в котором лежали, как минимум, четыре смены белья, Фриц сел за стол и написал записку для Мони и Уши, в которой попросил его понять.
Он подчеркнул, что бОльшую часть времени он отбыл, и что бросает их священных животных не на произвол судьбы, а на старого друга, которому доверяет.
После чего он попрощался со Штефаном и, кстати, с домом, внутрь которого Фриц больше не заглянул никогда, хотя мимо проходил не раз, гуляючи в этих краях – как по началу нашего рассказа…
Попрощавшись, он поехал к себе, но какой-то «спин», или просто вращательный момент (но не «поворот винта» в генри-джеймсовском смысле, от него Фриц убежал… но всё-таки… какая-то гайка, скажем так, разболтавшись… на винте, успела повернуться… наверно) сделал путь домой гораздо длиннее, чем он мог себе представить, покидая хижину.
По дороге домой его внимание привлекла витрина турагенства – рекламная фотография островка с типичной пальмой, белым песком и дощатой дорожкой, уводящей в изумрудное желе.
«Хочу туда» – сказал он туроператору, войдя в контору, и вышел с билетом на самолёт и отель – «паушаль-райзе».
Не совсем на этот остров, но где-то сравнительно недалеко, т. е. остров того же архипелага.
Где после пяти дней вполне безмятежного ныряния в окиян и солнечных ванн в гамаке
Фрица едва не расстреляли вместе с диллером, у которого он покупал траву и другим покупателем, который в тот момент был в доме. Фриц ушёл оттуда за полчаса до того как приехал армейский джип, из которого вышли автоматчики. Для местных жителей ничего необычного в этом не было – так на архипелаге, по крайней мере, тогда, решалась проблема с наркотиками.
А Фриц, когда узнал о происхождении выстрелов, которые он слышал на пляже, от портье, доплатив за билет, и бросил этот остров, как перед этим кошкин дом, раньше срока.
Портье покивал и сказал, что понимает, понимает, тайфун это такое дело – плохо предсказуемое, то есть говорят, что остров в этот раз он не заденет, но кто его знает… «Какой тайфун?» – не понял Фриц. Он не слушал новостей на острове принципиально, отключил все приборы, чтобы как следуют прочистить мозги. Портье произнёс имя тайфуна, но Фриц по прошествии многих лет не вспомнил, когда рассказывал мне про то странное лето, как звали тайфун наяву…
Зато он помнил, какое было имя у тайфуна во сне. И вообще он запомнил сон, который приснился ему в самолёте, ну бывают такие сны, которые запоминаются на всю жизнь, хотя, конечно, со временем они скукоживаются до нескольких основных деталей, и мы потом скорее помним свои пересказы этих снов.
Так или иначе, во сне тайфун звали, конечно, «Рената», а филиппинского диллера, продавшего Фрицу пакетик благовония, не расстреляли среди бела дня без суда и следствия, а только после суда с двумя присяжными – Макросом и Микросом; судьи были в овечьих париках и говорили о том, что диллер на самом деле – шаман, и обвиняется не только в том, что торговал запрещённым на архипелаге зельем, но и в том, что продал его Фридриху Винкелю, прекрасно понимая, что воскурение этого зелья этим гражданином Германии в этом месте и в это время приведёт к тому, что на остров придёт тайфун Рената и унесёт сотни человеческих жизней, и тысячи оставит без крова.
Наяву тайфун прошёл стороной, не задев остров, но покуражился над соседними вдосталь, и картинки в новостях напоминали развалины, которые Фриц видел во сне и в новостях в каком-то из прошлых лет.
С-глаз циклона, из сердца долой… Ну да, это я уже каламбурю машинально, Фриц просто говорил о том, что немудрёная паранойя, которая была мотивом сна, оказалась ненамного длиннее, чем сон: прибыв в Мюнхен, он ещё стряхивал с себя по дороге из аэропорта брызги тайфуна и смерти, прошедших совсем рядом, но в тот же вечер залил всё это пивом в штамм-кнайпе, и на следующий день перестал думать о том, о чём думать не стоит.
Когда Фриц через много лет рассказывал мне о своём путешествии, я напел ему «Остров невезения» и перевёл частично… Кстати, арию «Без женщин…» из оперетты Кальмана я ему, как я уже писал, не успел пропеть во время его балконного монолога, но потом как-то всё-таки напел однажды и перевёл, когда снова зашла об этом речь.
Т. е. когда мы опять-таки пили пиво, и Фриц деконструировал… или развинчивал, лучше сказать, по всем пунктам, известный лозунг, или, как сказать… триединую задачу воплощения германской души, как-то: «Weib, Wein und Gesang!» («Баба, вино и пение»).
Так что «Гардеробщика» Фриц достал из дальней папки в лэптопе только поздней осенью и доработав, послал, минуя агентства, в первое пришедшее ему на ум издательство – «Hanser», а потом и во второе, третье… а что было потом, я уже рассказывал раньше.
А что будет потом, я уже нарисовал, причём ещё раньше, чем начал писать рассказ.
Мы уже не так далеко от конца нашего оповiдання.
Если бы я писал на украинском, я непременно написал бы здесь: «незграбного».
Ну какой есть, такой вот Фриц вышел, «прошу любить и жаловать».
А будет ли он ещё кого-то любить?
А будут ли у него дети?
Нет, ну кто его знает… По крайней мере, я надеюсь, что он не сделает то, что предлагала ему его старая знакомая, у которой биологические часы показали жизненную фазу бесплодия…
Бесплодная Земля… своих провожает питомцев… Да, расскажу ещё это, и всё тогда, шлюс…
Они встретились на террасе Золотого Бара и, услышав его ответ, Беата сказала Фрицу, помешивая лёд в лимонаде:
– Ладно, это ты не хочешь. Ладно. Найду другого… А скажи, не хочешь ли ты, Фриц, отправить наш материал туда. – и она ткнула соломинкой вверх.
Фриц задрал голову и увидел перекладину между серыми колоннами, оба конца которой были вставлены в расписные китайские вазы – инсталляция, которую оставил после себя Ай Вэйэй, причём между всеми колоннами – вазы и перекладины, почти что под самым потолком… козырька… Хаус дер Кунст, где в орнаменте всё-таки остались красные свастики, разметавшиеся, правда, всеми своими продлёнными концами так, что свастиками в строгом смысле их не сочли и не закрасили – в единственном месте во всём этом городе.
Фриц опустил голову, поднял глиняную кружечку и прежде чем отпить пильзенское, подул на пену и посмотрел на Беату, широко раскрыв свои серые глаза.
Она улыбнулась и сказала:
– Нет, я не сошла с ума. Я имею в виду космос.
– Что-что-ч… – сказал Фриц, поперхнувшись.
– Ты не знаешь? Есть такая программа в Европейском космическом центре: желающие могут отправить в капсуле, которая полетит далеко-далеко, Фриц… в другую галактику, свои яйцеклетки… и сперму впридачу… Так как яйцеклетки я давно заморозила, и фирма мне это оплатила… Ну, ты знаешь, что это теперь оплачивается, чтобы я могла спокойно работать?
– „Social Freezing”. – кивнул Фриц.
– Так что мне теперь легко это сделать, взять их часть и…. Тебе тоже – труд невелик, да?
А вдруг они там кого-то встретят, а инструкция будет приложена, и… вырастят там наших деток, Фриц, представь, где-то далеко-далеко – та-а-а-м, во Вселенной… Вдруг они потом заселят собой – их потомки, какую-то планету, а? Может, так было и с Землёй? А мы будем первые в роду, представь, я прамать, ты праотец… А, Фриц, как тебе такая перспектива?
– Ты бредишь? – сказал он. – Нет таких капсул, чтобы уберечь… такие вещи от космических лучей… на такое время, я уверен, что это невозможно… Это, наверно, какие-то мошенники, зарабатывают деньги… Но дело даже не в этом… скажи, ты действительно готова была бы на такую затею, даже с одной биллионной биллионной биллионной биллионной… вероятностью того, что твои отпрыски очнутся в пробирке, которая будет в руках невообразимых для тебя существ, где-то в биллионах километролет, не зная и никогда не узная, кто они, откуда… Ты монстр, Беата?
– Я шучу. – сказала она. – Я – шучу. Но ты! Ты не шутишь, когда говоришь, что не хочешь, чтобы это произошло здесь, на Земле.
– Как ты себе это представляешь? Я ещё к этому не готов… мы давно уже не пара и вообще…
– От тебя ведь нужно только одно, всё остальное это будет моё дело.
– Да, но я так не могу – знать, что где-то рядом растёт мой сын или дочь и…
– Успокойся, Фриц. Всё ясно. И в другом конце Вселенной – если твои дети будут расти, для тебя это плохо… и рядом плохо. – как ни в чём ни бывало улыбнулась она. – Ну всё, я поняла. Прости, плохой вопрос задала, забудь. Давай о чём-нибудь другом, что там у тебя сейчас в твоей онлайн-редакциии…
Так что первым в роду Фриц точно не хочет быть и, надо полагать, не станет.
Последним?
У него нет никаких «гешвистер», т. е. ни братьев, ни сестёр, но… как показал пример Ренаты Шульце, где-то какие-то наследники всегда найдутся, по крайней мере, на Земле, не правда ли. Да и что об этом думать? Фриц старается жить здесь и сейчас, вот он идёт по городу, правда, совсем не так быстро, как обычно, но это не потому, что успел состариться, пока сказка сказывалась, а потому что вся Театинерштрассе заполнена людьми, и толпа очень плотная: Второй Адвент, воскресенье, вокруг Фрица переливается огоньками, запахами и ароматами Вайнахтсмаркт, т. е. рождественский рынок, разбросанный по городу, как апельсины в чьём-то черновике… но здесь продают не апельсины, а другую снедь и глювайн-глинтвейн разных видов, вот в некоторых ларьках есть под названием «Бабушкин рецепт»: с 80-градусным ромом, сахаром и огнём, и всё это надо подливать и помешивать длинной ложечкой.
Фриц, не в силах идти дальше из-за плотности толпы, решает, что всё равно топтаться на месте, можно и выпить заодно глювайна в конце концов. Да, хоть он и не пьёт вино, ну так это и не вино…
И если уж глювайн, то и в самом деле – глюенде, т. е. огненный, конечно, подходит его очередь, ему выдают синюю кружку со звёздочками, к которой приреплена мензурка с ромом и уже пылающий кусочек рафинада, который надо поливать – длинной ложечкой черпая из мензурки, и сахар тогда продолжает гореть, а ром стекать в глювайн, поверхность которого тоже вспыхивает при этом, и надо секунду ждать, а потом уже делать следующий глоток.
Со стороны Фрица, который пролил, совершая эти манипуляции, на столик немного огненной жидкости, начинает вдруг полыхать и вся поверхность столика, возле которого стоит ещё несколько человек – к ним течёт огненная волна, и они отшатываются, насколько это возможно – плотная толпа не пускает их…
Ничего страшного не происходит – пламя быстро гаснет, наш Фриц как-то его сгребает, используя пепельницу, со стола на землю, искры… всё, пожара нет, всё в порядке, все уже смеются.
О, это растекающееся тонким слоем пламя и тепло, наполняющее тела изнутри… Все чувствуют себя пожирателями не брат-вюрстхен или что там они жуют, «бисмарки» (бутерброды с селёдкой), плэтцхен (рождественские коржики), whatever… а –
пожирателями пламени!
Да так оно почти что и есть: Фриц, приноровившвись, теперь поливает понемножку таящий сахар… или это сухой спирт, ну конечно, какой сахар, простите, спирт, конечно… и пьёт-ест этот огненный компот.
Он берёт ещё одну кружку, а потом ещё одну – уже не огненного, он уже наигрался с огнём, и теперь хочется просто пить, а потом он начинает тосковать по своему пиву в штамм-кнайпе, но чтобы попасть в неё, надо дойти по улице да ратуши, а потом ещё и пересечь Мариенплац, а при такой плотности толпы…
Наш герой решает идти в обход, а по дороге замечает в окне какой-то пивной, куда бы в другое время он бы точно не заглянул (он немножко сноб, да), что там есть места, и заходит туда, чтобы пересидеть там этот наплыв «адвентистов», а может, вообще перезимовать, кто знает.
В баре первым к нему подходит не официантка, а другой посетитель, и вручает листок с нотами и текстом.
Оказывается, они там поют рождественские песни.
Фриц смеётся и говорит, что он не поёт… вообще то есть не поёт – никогда.
Зато все остальные спивают ещё как… а румяная девица в зимнем дирндл и в чём-то вязаном… играет на зелёном аккордеоне, сверкающем изумрудными боками и серебряными всякими большими бляхами… «Итальянская штука» – говорит ему сосед, видя, что Фрица заворожил вид инструмента.
Сосед сначала тоже не поёт, но, положив листик на стол, внимательно следит по тексту и в какой-то момент подпевает.
Потом вдруг начинают составлять в центре зала стулья, выходят из-за столов несколько человек со скрипками и виолончелями, рассаживаются и вот они уже играют Корелли, а
Фриц закрывает глаза и слушает, грезит.
Играют чисто, и на душе у Фрица светло, «бир нахдем вайн мус нихт зайн» – это бабушкин рецепт для деток, а Фриц давно уже взрослый мальчик, и ему хорошо, он думает о том, что это же вообще в его случае кредо… Открывая глаза, он понимает, что снаружи ему тоже сейчас нравится: скрипки и смычки на фоне затрапезных пивных кранов, посуды в мойке, нелепых картинок на стенах и т.д., это неожиданно как-то свежо, скрипачи как такие отмороженные, заблудившиеся пришельцы…
Фриц постепенно сосредотачивает внимание на виолончелистке в фиолетовом пиджачке и чёрных боюках – движения её кажутся ему слишком отрывистыми, грубыми, слишком дискретными… но она не фальшивит при этом: всё звучит чётко.
Но как-то безумно она выглядит слегка, как механическая кукла для игры… Это он уже наблюдает за ней, когда музыканты отыграли концерт, и она встаёт, идёт за столик, а потом переходит за другой, возбуждённая игрой, по-видимому, ей хочется общаться, они все здесь знают друг друга, ну или не все… Фриц думает, не пообщаться ли ему тоже с ней… Но она движется точно так же, как до этого играла, как маникини, как марионетка, которую чересчур дёргает, лицо тоже странное, или так кажется из-за её движений, пока она играла, она казалась ему красивой… нет-нет, Фрицу становится неприятно всё это наблюдать… Вообще, вдруг становится ему не радостно как-то, и что-то зовёт его дальше, что-то он вспоминает – он шёл в свою кнайпу… Он расплачивается за два бокала светлого и выходит на улицу.
Там идёт снег, Фриц непроизвольно восклицает «Вайсе Вайнахтен!»
Белое Рождество.
Хотя это ещё не Рождество, а только Второй Адвент.
Что, разумеется, никак не мешает Фрицу радоваться Первому Снегу.
Народу стало как-то меньше, или так Фрицу кажется, но он и в самом деле продвигается теперь между людьми гораздо быстрее, как будто их и нет вокруг, почти беспрепятнственно.
Нет, наверно и впрямь толпа поредела, а снег стал гуще, Фриц наш уже на Мариенплац, превратившейся в горный заснеженный хутор, он пробирается между ларьками-избушками, стараясь делать это по диагонали, и вот так примерно доходит до конца этой незатейливой истории.
Который вообще-то зависит от того, как она будет издана (если будет), ну или в каком виде вы её читаете.
Если книжка с картинками, то последнюю сцену писать и читать уже не надо, потому что она нарисовалась ещё до того, как начал писаться рассказ:
Das Ende Der Geschichte.
P.S. так как, пока что у меня вышла только одна такая публикация – с картинкой,
в журнале «СП», а книг с картинками вообще не было и очень может быть, что и не будет никогда, то надо, наверно, на всякий случай написать.
Попробуем очень коротко и так, чтобы было не менее понятно, чем на картинке.
На другом краю Мариенплац Фрица вдруг окликают старые подружки и бывшие соседки. Снег, раскрасневшиеся лица, объятия и даже визг.
Фриц предлагает им выпить глювайна, или пойти, что ли, в штамм-кнайпу, но у девушек есть альтернативное предложение. «Нам не хватало как раз третьего!» – говорят они и тянут его куда-то. Фриц не понимает, что они имеют в виду, они берут его под ручки и ведут дальше в сторону Виктуален-маркта, где их поджидает огромный детина в зимней рабочей робе. «Кто это?» – спрашивает Фриц, когда понимает, что они идут прямо к этому человеку – возле головы которого висит крюк и на крюке что-то… пока что ему непонятное (и Фрицу и вам, если в книге нет картинки, а если есть, то дальше читать уже точно не стоит, вы уже всё это видели), крюк большой, Фриц понимает, что это не цугундер, ну разве что для слона или кита… и он, конечно, шутит, потому что рядом же – древние мясные лавки, одна за другой (это сразу за поворотом на Виктуаленмаркт с Мариенплац), говоря девочкам с полупритворным испугом: «Кто это? Мясник? Вы на заклание меня ведёте?» «Это крановщик!» – говорит Мони. «Что? – не верит Фриц. – Тоже весело… Ну, не висельник, по крайней мере… Хотя… в некоторых странах краны используют… я видел казни в Иране женщин… да-да, по ТВ… А где же кран?» «А вон» – говорит этот парень в рабочей одежде и показывает пальцем в небо. Фриц задирает голову и видит высоко в небе подъёмный кран, столб которого, как он понимает, стоит где-то возле Schrannenhalle, т. е. бывшего (ещё предвоенного) крытого рынка, который решили отстроить заново, он читал… всё время что-то строят, перестраивают, пере… кран, стало быть стоит там, а стрела здесь, то есть размах… «Фриц, нас покатают!» – говорит Мони. «Нас?!» – говорит Фриц. «Так вы будете или нет?» – спращивает крановщик. – А то вон уже ждут другие желающие. Тут вообще-то очередь была ещё недавно, вот девушки не дадут соврать». «Да, и мы её выстояли! – говорит Уши. – Давай же, Фриц, полетели! Когда ещё нас так прокатят? Это тебе не Октобер-праздник, который всегда с тобой… это только один раз!» «Децемберфест… – ворчит Фриц, – и сколько это стоит?» «Всего лишь 20 евро. За четыре круга» – говорит крановщик. «За нас всех или с каждого в отдельности?» – спрашивает Фриц. «С каких это пор ты начал торговаться?» – смеётся Мони. «Да я не торгуюсь…» «Конечно, с каждого!» – говорит крановщик, Мони уже начинают «приковывать» к платформе-кровати… «А кто-то вам это разрешил?» – спрашивает Фриц. «Разрешили. – говорит крановщик: – В Ратушу на приём ходил, схему показывал, всё в порядке. Я доказал, что это самый надёжный аттракцион из всех возможных на Земле!» «Сомневаюсь…» – говорит Фриц, чувствуя, что его уже пристегнули к плите-кровати-платформе, которая висит в воздухе вертикально, ну чуть наклонно, так что вся троица для начала не легла на неё, а как бы прилепилась, стоя, нагнувшись назад, к куску стены… «А вы сейчас убедитесь!» – говорит крановщик и даёт команду по переговорному устройству, проверяет, надёжно ли закутал троицу по грудь в какую-то доху, он ещё подворачивает мех, когда его изобретение приходит в движение… Фриц, пролетая над черепичными крышами, частично белыми трубами… вспоминает, как недавно в Оперном (на фронтоне здания которого надпись – мелькает в его голове – «Возвращено Апололну и музам») певицы летали и пели… да-да, их запускали там в воздух на лебёдках, как бумажных змей, стоя за кулисами, рабочие сцены… «Почти как нас сейчас… – думает Фриц, – только мы не поём… зато эти две орут с двух сторон…» Всё, здесь мы, пожалуй, оставим Фрица и в текстовом варианте – в ночном небе над огнями на стреле башенного крана, которая описывает телесный угол, как ножка циркуля… Нет, это не развёртка, по крайней мере, мы-то как раз надеемся, что, если не к середине рассказа-раскраски, то под конец Фриц всё-таки стал… ну, не совсем бестелесным, да, мы будем тешить себя такой мыслью, по крайней мере, ну а иначе зачем всё это было, ну да.








